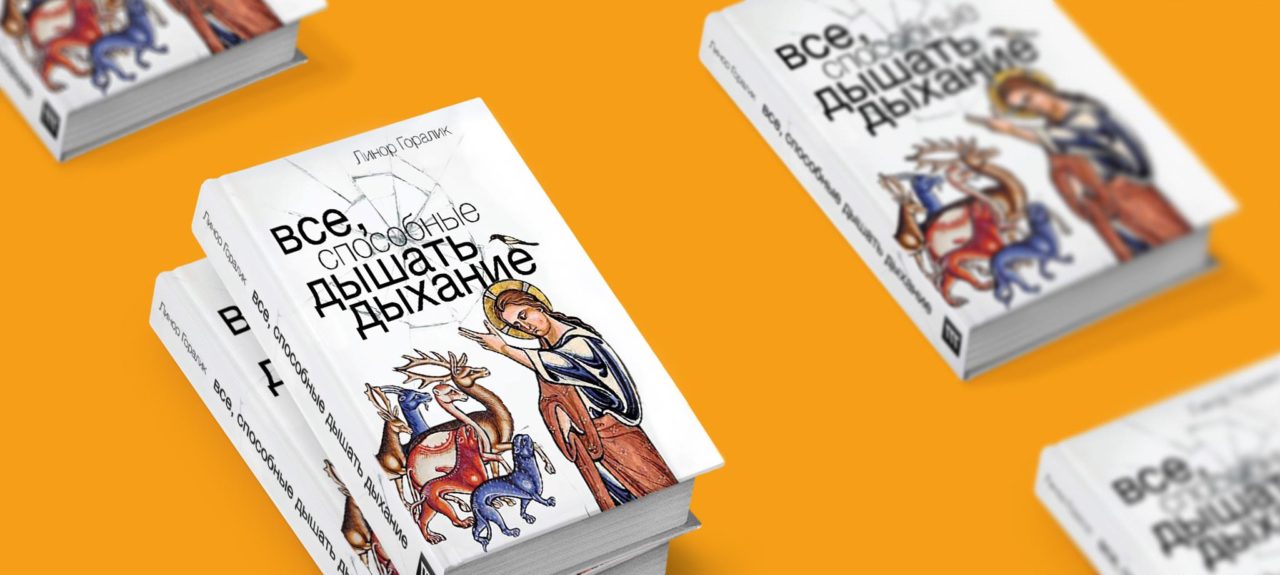Линор Горалик вряд ли нуждается в особых представлениях: читатели хорошо знают ее как теоретика культуры, исследователя, поэта, автора замечательной короткой прозы, детских книг, совместного с Сергеем Кузнецовым романа «Нет», книге о Барби «Полая женщина», большого проекта интервью с современными поэтами, выросшего в объемный двухтомник «Частные лица». В общем, она очень много и очень успешно делает всякое разное, но у всех ее литературных движений обнаруживается одна тема. Все это про частный мир — не столько о том, что вообще вокруг нас происходит, сколько о том, какую роль мы во всем этом играем, что такое вообще — мы.
Вполне можно сказать, что любая история, которую рассказывает Линор Горалик, в своей кульминации поворачивается так, чтобы совпасть с личным опытом читателя. Или хотя бы стукнуть его прямо в сплетение какой-то общей боли. Краткая форма «фрагмента», притчи, с которой Линор Горалик начинала, подходит для таких словесных аперкотов как нельзя лучше: «…собачка бежит, грязная-грязная, а уши у нее розовые-розовые и просвечивают. И тут я подумала: черт его знает, может, надо было тогда рожать». Это, кстати, довольно старый текст — впервые опубликован в «Новом мире» аж в 2006-м. Но уже здесь есть рифма собачек и людей, как будто объединенное их существование, которое приведет ее к роману «Все, способные дышать дыхание».
Вообще к нему многое что вело. Например, детская книга «Мартин не плачет» — о карликовом лабораторном слоне и его большой любви. Или «Библейский зоопарк», книга Линор Горалик 2012 года, рассказы новоявленного репатрианта, который обнаруживает, что на родине, наряду с раскрывшими объятия израильтянами, его ждут духовные кролики, оптимистичные голуби и несгибаемые собачки. А также целый зоопарк в Иерусалиме со слонами, пингвинами, сурикатами и нежными лемурами, которых в Библии, конечно, не было. Кульминацией той, вполне легкомысленной на первой взгляд, книжки с картинками автора было открытие сложности в отношениях с животными: когда им от нас нужно только еды, а нам от них любви, дружбы и внимания. А из этого чувства уже вырос роман о том, как после некой катастрофы в Израиле заговорили животные. И теперь все эти сложные отношения надо как-то регулировать, всех полюбить, всех пожалеть.
Эта задача для всего — выстроить правила, систему, институты — вполне объясняет, на мой взгляд, почему местом действия стал именно Израиль. То есть причин, конечно, несколько, и в целом лучшего места для катастрофы в мире не найти. У нее и размах-то вполне мифический, библейский: в одном из эпизодов рассказчик описывает, как перед катастрофой союзники не могли ни ввести в Израиль войска — их косили болезни, — ни ввезти гуманитарную помощь, она портилась, ни сбросить оружие с вертолетов — ломались вертолеты. И зачарованно добавляет: «Все это было смертельно страшно и смертельно красиво». Но это не значит, например, что в какой-нибудь Москве в апокалиптическом мире романа собаки с налитыми кровью глазами не попрошайничают в переходе деткам на операцию, олени не устраивают охоту на зайцев, а медведи не просят пряники в зоопарке — просто московский мир остается прежним, только с говорящими зверюшками. Израиль же немедленно переорганизуется: все расселяются по лагерям, всем бадшабам, то есть говорящим животным, полагается учет и паек, всякая живность тут же пристраивается к делу, любой землеройке сплетут фенечку на шею, любую гребнепалую ящерицу оберегут, их и осталось-то всего четыре, а в Израиле сирот не бывает. Собственно и само название «Все, способные дышать дыхание» — это намек на такую попытку систематизации, вроде той, что весь мир разделился по-новому, на дышащих и не дышащих.
Да и катастрофа, асон, не сводится к говорящим животным, она и сама системная: проваливаются в воронки города, радужная болезнь вызывает постоянные головные боли, не работает связь, с пустыни приходят слоистые бури, их называют «буша-вэ-хирпа», стыд и позор, из-за чувства стыда, которое они вызывают. То есть представьте, перед вами бьются в истерике говорящие голуби, а вы умираете от вины, злости и стыда перед ними. «У асона тридцать три фасона» — приговаривают герои романа, и весь роман рассыпается на толпу героев и их историй, не всегда, но часто связанных между собой. Где-то здесь надо предупредить, что читать эту книгу, вообще-то, довольно тяжело. И не только потому, что единого сюжета для читателя здесь нет. Тут вообще сюжетом становится не движение от пункта А к пункту Б, а повторяющееся упражнение в эмпатии.
Это такой роман, в котором ты не всегда понимаешь, что именно происходит, но все время что-то неприятное чувствуешь. Например, те самые страх и стыд, или, словами романа, «толстый слой чувства вины, какое теперь полагается иметь порядочным людям». Возможно, и винить-то себя было не за что, события, вызывающие стыд, могут оказаться ничтожными или воображаемыми — но что вообще больше характеризует современного городского жителя, чем чувство мучительного стыда за все перед всеми. Даже перед собственным сладким котиком — а ну, представьте, что этот котик еще и может все высказать. Хотя котикам обычно оказывается не до этого, чаще всего новообретенная речь пугает животных еще больше, чем людей: «Что такое? Очень страшно, что такое?..» плачет голубь, вглядываясь в черное облако на горизонте.
Тут большая проза Линор Горалик не слишком отличается от маленькой: она рассказывает много историй в коротких главках, всего 103 главы, и в каждой, как в ее притчевых историях, есть эмоциональная кульминация, тот самый момент встречи с читательским опытом. Иногда для этого достаточно одной строки: так, 76 глава книги — это арабское граффити на стене часовой башни в Яффо, которое переводится как «Мы тоже умеем говорить». Разыгранный во множестве сюжетов, распавшийся на множество рассказчиков разговор об эмпатии. Или, что не менее к нему применимо, о любви. Потому что по сути своей это очень христианская книга — пусть христианство тут представлено комическим дуэтом свидетелей Иеговы, которые ходят по квартирам с кубиками про Бога — их удобнее держать в лапах.
Одна из самых сильных глав здесь — разговор обращенного в свидетели змееныша с раввином: «Бог просто разрешает нам говорить что попало, потому что нам так легче. Ему нас очень жалко, он и разрешает нам делать всякое, чтобы нам было легче, вот нам и легче». «Даже плохое?» — переспрашивает раввин. «А я не делаю плохое, и ты не делай, вот и все», — отвечает змееныш.
В этом мире говорящих муравьев все равны, нет никаких братьев наших меньших, а есть одинаково страдающие люди и звери. Главное упражнение для читателя оказывается в том, чтобы испытать одинаковое сочувствие к слону-мизантропу, неприятному начальнику лагеря, фарабелле с нарушением краткосрочной памяти, умирающим жукам, посылающим весть в Иерусалим о своей кончине, затравленной подружками бесхвостой ящерке-подростку, безумной обитательнице лагеря, (впрочем, тут все так или иначе безумны), придумавшей для бадшабов медитацию «Дышим — и не думаем», спасающую от каждодневной маеты. В этом предельном состоянии — между гибелью почти всего и возможной гибелью всего, что осталось, — главной задачей оказывается уже не выжить, а быть хорошим — в этом новый асон вполне отсылает нас к другой, незабытой, катастрофе. Отсылают к ней и финальные главы романа, сильнейшие и страшные, где даже хрупкий баланс постапокалиптического мира летит к чертям. Так что да, какой-то катарсис в этой книге все-таки есть, хотя, казалось бы, нет цельной рассказанной истории.
Но удивительнее всего, как эта довольно мучительная, неуютно устроенная книга оказывается про «нас». Линор Горалик, надо сказать, никогда не боялась этого коллективного «мы», вплоть до того, что героями ее часто становятся ее собственные друзья, и даже в новом романе есть обязательная шутка из Александра Гаврилова. Но кажется, здесь никогда это «мы» не было уместней, «мы» —это те, кто стремится к добру, хотел бы быть хорошим, испытывает мучительный стыд за то, какой он на самом деле. Роман Линор Горалик позволяет увидеть этот собственный стыд, встать перед ним и, возможно, даже победить — просто потому что нас много, это общее и на этой карусели страданий никто не катается в одиночку.