«Курица не птица, баба не режиссер»

Премьеру спектакля Жени Беркович «Финист ясный сокол» о российских женщинах, захотевших уехать замуж в ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), снова перенесли из-за карантина. «Такие дела» расспросили Женю о ее постановках, женщинах в театре, евреях и «взрослости-перевзрослости»
«Люди не падают с земного шара, потому что прикреплены к поликлиникам»
— Женя или Евгения?
— Мам, привет! Женя.
— «Мам, привет, меня показывают по “Таким делам”»?
— Да! Я сейчас внезапно привыкла к «Евгении Борисовне», поскольку появилось много обстоятельств, в которых я — «Евгения Борисовна». В школе, в опеке. Это лучше, чем «Евгения», в этом есть какая-то ирония.
— Еще важный вопрос: режиссерка, а не режиссер? Это осознанная позиция? Ты феминистка?
— Я знала, знала. Напишете так — и будет 800 комментариев: «Отписываемся».
Ну да, я феминистка. Это осознанная, мотивированная позиция, которая хорошо подкрепляется тем, что я не настолько серьезно к себе отношусь, чтобы страшно запариваться. Я в конце концов женского пола. Но есть масса обстоятельств, когда я на этом не настаиваю. Если, например, общаюсь с людьми старшего поколения, с которыми мне важно заниматься делом, а не доводить их до приступа. Это важный вопрос, но мне не кажется, что он каждый раз требует кровавой бойни. Я вправе называть себя так, как хочу, — моя личная дурь, от которой точно никому не плохо.
— В комментариях под твоими интервью многим плохо от этого. Может, потому что политика приходит в язык?
— Меня по умолчанию называют режиссером — это уже политика, которая пришла в язык. Это связано с тем, что женщин в режиссуре не было. Как не было слова «стюардесса» — было слово «стюард». Потом женщин допустили работать. «Официант Маша» или «стюард Лена» — неудобно для языка, в котором феминитивы в принципе есть. А в русском они есть. Женщин-режиссеров не было, потом они появились и было сложно. И сейчас сложновато. Но людей не две лишние буквы раздражают, а все, что они за этим видят. Это подсознательный страх, во-первых, перед тем, что неизвестно, во-вторых, перед любыми директивными историями. Одни и те же люди страшно возмущаются каким-нибудь антигейским законом и всей историей с Meetoo, харассментом и так далее. Они воспринимают и то и другое как вторжение в свою кровать, а много лет кровать была единственным местом, куда все равно лезли — с парткомом, выволочками и «аморальными поведением». Мы будем спать, с кем хотим, — не потому, что мы насильники мерзкие, а потому, что это инерция многолетняя. Не надо нам этический кодекс, мы в этих кодексах всю жизнь.
— Ты сейчас работаешь в проекте «Дочери СОСО». Расскажи, что это. И почему назвали именно так?
— От балды. Мы участвовали в детской «Золотой маске» (главный российский театральный конкурс и премия. — Прим. ТД), надо было быстро сказать, как мы называемся. Было два варианта: «ВИА “ЛибидО”» и «Дочери СОСО». Мы придумывали название для группы, с которой мы будем чесать по ресторанам, когда доучим грузинские песни (для пьесы «Считалка», над которой «Дочери СОСО» тогда работали. — Прим. ТД). Поскольку это была детская программа «Золотой маски», я решила, что ВИА «ЛибидО» немножко слишком. А «Дочери СОСО» — вообще непонятно, что за хрень.
Я не знала, что Сосо — одна из кличек Сталина. К счастью, этого уже никто скоро не будет знать. Вообще, у нас вокально-инструментальный ансамбль «Дочери СОСО» имени Сосо Павлиашвили. Максимально идиотское решение.
— Кого объединяют «Дочери СОСО» и что вы все делаете?
— [пауза] Пироги печем. Это исключительно актрисы, у нас один парень в команде — наш директор, продюсер, он же пиарщик, он же фотограф Александр Андриевич. Он случайно во все это вписался, типа: «Шура, помоги».
— Ты называешь это «наша маленькая независимая компания». От кого?
— В данном случае «независимый» значит «не получающий постоянного государственного финансирования».
— «Независимый» — значит «бедный»?
— По-разному бывает. Грант получишь — молодец. На «Считалке» грантов не было и никаких гонораров, продаем билеты — из этих денег всем платим более-менее поровну. Это радость. И идея, конечно.
Для меня не радость — быть приглашенным режиссером в репертуарном государственном театре, даже хорошем. Я уже не могу. Система более чем полностью построена на тотальном насилии, несвободе. Это не значит, что все монстры, насильники, негодяи и мерзавцы. В системе очень много инерции и бессмысленности. Много выученной беспомощности, потому что никто ни на что не влияет, никто ни от чего не зависит: продались билеты или не продались — в целом театру более-менее по барабану. Никто не может никого выбирать, никто не может ничего решать, все в подчинении, включая худрука, который находится в подчинении департамента — у него свои директоры, у которых своя цензура, ограничения. Очень рабская история.
— И ты лично сталкивалась с этой несвободой в театре?
— Совершенно не хочу в театр тыкать, неважно, делала спектакль, и очень было все сложно. Сидит передо мной артист, мне 30 в этот момент, а ему 24, ну совсем молодой чувак, у которого, по идее, все должно гореть и звенеть. Я в отчаянии говорю: «Вася, зачем ты пришел на репетицию? Тебе ничего не надо, тебя тошнит, ты сидишь в телефоне, ты хамишь, ты троллишь, ты ненавидишь эту сказку, которую мы ставим. Зачем ты пришел?» Он говорит: «А меня выписали».
Дальше начинается то, что я ненавижу: режиссер должен быть психологом, мамкой, нужно кого-то обмануть, уговорить, изнасиловать во всех смыслах этого слова, нужна жесткая рука.
Помню, мне хороший артист хорошего провинциального театра в курилке говорит: «Жень, с нами так нельзя, нас надо ломать». Почему я должна кого-то ломать? Я люблю садо-мазо в других местах своей жизни, и там это устроено по-другому, я не хочу ломать человека, у которого нет стоп-слова. Я не хочу вообще играть в эту игру, а так учат.
— Государство дает деньги независимым театрам?
— Государство не дает деньги напрямую, сейчас понемногу начинается система грантов. В основном театры — это все-таки частные фонды, фонд Прохорова (Благотворительный фонд бизнесмена Михаила Прохорова. — Прим. ТД) — вот прямо не обломаюсь его назвать — он много поддерживает и «Док» (Театр.doc. — Прим. ТД), и «Любимовку» (независимый фестиваль молодой драматургии. — Прим. ТД), и кучу-кучу всего, там действительно честный экспертный совет. Но, вообще-то говоря, когда твое существование зависит от того, придет ли к тебе зритель, — это хорошо тонизирует.
— Думаешь, будет лучше, если рынок сам отрегулирует успех театров?
— Конечно. Когда появляются независимые театры, сильно подтягивают попы и те, кто сидели с расслабленными попами.
Нам повезло, мы успели как раз получить два гранта: маленький — СТД (Союза театральных деятелей. — Прим. ТД) и большой — фонда Прохорова. Нам хватило, чтобы актрисы продолжали заниматься с хорошим педагогом, чтобы спокойно делать декорации и костюмы.
Мое совершенное счастье, что можно жить и работать в своем режиме. Если я понимаю, что нужно несколько месяцев, чтобы актрисы вышли на новый вокальный уровень, — мы изворачиваемся с директором Шурой, находим договоренности. Если мы поймем, что не готовы, — можем еще три месяца хреначить. Мы сами себе хозяева, у нас нет репертуарного плана. Свобода во всех смыслах слова.
Но такая студийная история недолго живет, я понимаю, что два-три-пять спектаклей — и нам надо будет разойтись. Или сильно переформатироваться. Но ведь никакой театр очень долго не живет, он умирает, остается оболочка.
— Многие ассоциируют само слово «театр» со зданием, сценой. Ты считаешь, что театр — это в большей степени люди?
— Всю историю театра так и было. Это были люди — бродячие труппы. Потом пришел Советский Союз, построили гробы, прописку ввели, сделали колхозы — государственные репертуарные театры.
Почему люди не падают с земного шара? Потому что прикреплены к поликлиникам. Золотое, великое время МХТ Станиславского с большой натяжкой длилось 20 лет. Все остальное время это потихонечку превращалось в гроб, мавзолей, смерть.
— А ты кричишь на актеров?
— Стараюсь не кричать. Разговариваю словами через рот.
— Получается, у вас такой горизонтальный театр?
— Мне концепция горизонтального театра не очень близка, потому что распределение ответственности все равно разное. Мастер мой, Кирилл Серебренников, нас пи… Как это сказать? Сильно ругал, если кто-то из режиссеров говорил: «У меня артист плохо сыграл, у меня артисты — такие говнюки». Если артисты плохо сыграли, значит ты плохо с ними поработал. А если артист прям вообще профнепригодный, значит ты плохо его прикрыл, не придумал способ, как у тебя дуб-дерево будет выглядеть хорошо, — не задымил, не подсветил.
Еще этот ужас: «Артисты — дети». Дети все-таки дети, я несу за них полную ответственность. Я не подруга, не коллега, я — взрослый, они — ребенки. С актерами — я не понимаю, почему я должна быть в этом типе отношений. Это работа за деньги! За маленькие деньги, но работа.
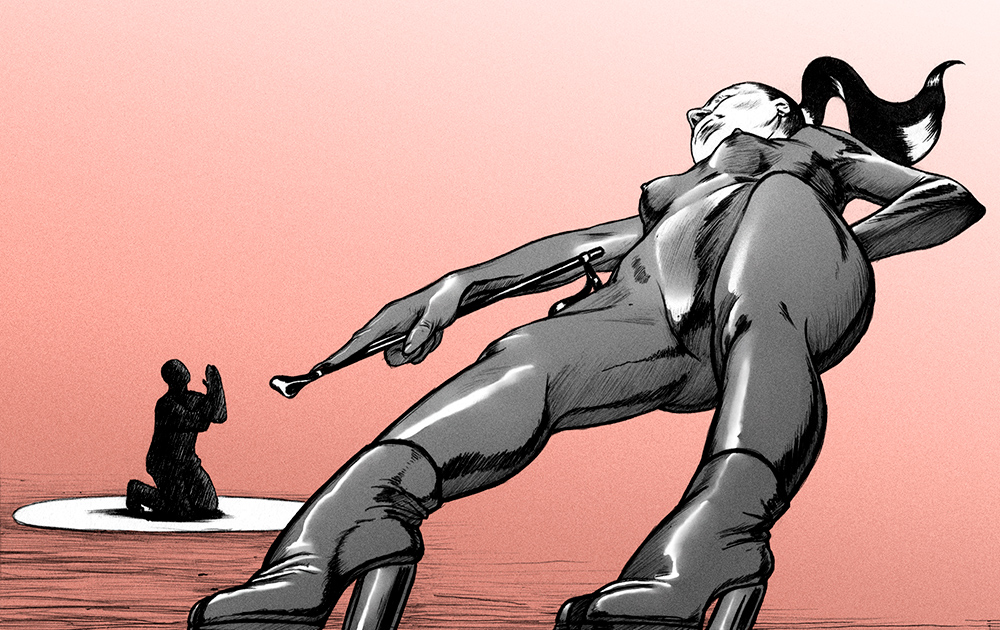
«Супергипервзрослый перевзрослович во всех смыслах»
— Ты работала и с детьми-актерами — с сиротами на фестивале «Я не один». Как это было?
— Это придумала моя подруга, прекрасная актриса Мариэтта Цигаль-Полищук, — заниматься театром с ребятами из детских домов. Первый год там не было лагеря, мы просто ездили по детским домам, я участвовала как режиссерка в одной из команд. А потом мы решили делать лагерь, еще ничего в теме не понимали, но уже понимали: ехать к ним в этот детский дом и приходить их развлекать — это в режиме «волонтеры с тортиками».
— Почему волонтеры с тортиками — это плохо?
— Потому что они остаются в своей среде, полностью продолжают жить своей жизнью. И вот приходит, как в зоопарк, стопятьсотмиллионный взрослый, который чего-то с ними пытается делать короткое — три недели, две недели. А за это время невозможно переключить людей, которые живут очень специфической жизнью.
Мы хотели попробовать вынуть их из среды. Добавили ребят из приемных семей, поменяли немножко принцип, и они не варились каждый в своем детском доме, смотрели, что делает другая команда, у них были общие большие мастер-классы. Мы им реально перегрузили программу, не дали адаптироваться, у них срывало, естественно, башню, они устраивали бунты, мы страшно переживали. Сейчас понимаю: боже мой, как они нас там не убили?! И себя.
С другой стороны, если бы я была со всем опытом, который есть сейчас, я бы в это просто не вписалась. То было абсолютное слабоумие и отвага. Мы туда прыгнули. Мариэтта, бедная, до сих пор, по-моему, не оправилась, на ней, помимо эмоционального, творческого и так далее, висела административная часть. Мы даже получили президентский грант, чтобы снова провести фестиваль, но тут случился COVID-19. Должны были летом проводить, но и хорошо, что нет, уже не было никаких сил и ресурсов. Через какое-то время надо будет к этому вернуться, хорошо все переосмыслив.
Это один из самых крутых, счастливых, потрясающих опытов в моей жизни. У нас пять детей в семьи попали после этого проекта — ну ни хрена себе, ты сделал театральный проект, после которого люди нашли маму и папу. У нас был потом фестиваль в Москве в сотрудничестве с фондом «Арифметика добра» (благотворительный фонд помощи детям-сиротам. — Прим. ТД), там был день, когда приезжали к ребятам знакомиться кандидаты в приемные родители. Мы их звали на спектакль — ты можешь прийти посмотреть на ребенка, не вгоняя его в жуткий стресс. Ты пришел как зритель, он понятия не имеет, кто там в зале сидит, нет этого ужаса котят на выставке.
— Опыт фестиваля «Я не один» как-то повлиял на то, что ты и сама стала приемной мамой? Как это вышло?
— Мы с фондом «Я не один» и фестивалем «Территория» делали лабораторию, ездили в детский дом в Дзержинске. Там была маленькая девочка Кира, которая совершенно попала мне в сердце. Я была уверена, что не буду тем человеком, который ездил-ездил [в детские дома], а потом взял [приемного ребенка], казалось, я по-другому устроена. Я понимала, что рано или поздно стану приемной мамой, но вообще не сейчас.
Через год мы решили поискать ей семью. Нашлась мама, которая ее взяла, в этой семье еще была одна девочка Аня, тоже приемная. Кира и Аня не сестры, но вместе были в одной семье. Буквально через несколько месяцев приемная мама очень сильно заболела. Так получилось, что некому было их перехватить, они оказались обратно в приюте. Я случайно об этом узнала. Нужен был человек, который может срочно оформить временную опеку, чтобы их оттуда вынуть.
Я пошла и забрала, это все должно было быть временно, и еще временно, а потом еще временно, а потом стало понятно, что Лена не сможет юридически восстановить опеку, потому что у нее серьезные проблемы со здоровьем. До их 18-летия, вероятно, уже и не сможет. Дальше мне сказали: «Евгения Борисовна, решайте, срок подходит». Либо я иду оформлять документы окончательно, либо моя бумажка превращается в тыкву, а они возвращаются в систему. Ну это же невозможно, это же жесть.
— Было страшно?
— Да-а-а. Очень. Но ты не можешь взять двух людей и запихать их обратно в детский дом. Там такая степень ужаса, стресса, кошмара… Если бы я начала им искать новых маму-папу, они бы не дошли до этих мам и пап, у них просто крыши поехали бы.
— Какие у тебя с ними отношения?
— Дети мои. Подростки. Какие с подростками бывают отношения? На американских горках мы катаемся.
— Они напоминают тебе себя в подростковом возрасте?
— Да! Да-а-а. Главное, что с тобой происходит, когда становишься приемным родителем, — это не знакомство с детьми, это знакомство с собой.
Из тебя вылезает все говно, которое может вылезти. Начинаешь говорить: «А если все из окна прыгнут, ты тоже прыгнешь?» и «Учеба — это твоя работа». Господи, где во мне это сидело? Когда я первый раз, варя суп, повернулась и крикнула: «Дети, идите обедать». Я так с ложкой и зависла: то есть это я сейчас говорю, а не мне? Абсолютное ощущение, что мне до 34 лет было все время 14, потом в 34 сразу стало 34.
— Из-за детей?
— Это принудительный экзистенциальный опыт. Ты вынужден меняться со страшной скоростью в невероятных направлениях. Я перестала бухать. Потому что это могло очень плохо закончиться: невозможно совмещать никакую зависимость, даже в лайтовом богемном виде, потому что ты должен быть не просто взрослый, а супергипервзрослый перевзрослович взрослый во всех смыслах.
— А как ты научилась-то быть взрослой?
— Я еще не научилась. Это процесс. Ты просто ищешь способ. Как ты научился прыгать через полутораметровый забор, когда за тобой гнались десять ротвейлеров? Ну как-то научился.
— Ротвейлеры — это ответственность?
— Ротвейлеры — это ответственность.
— Какой самый большой косяк ты допустила в процессе обретения взрослости?
— Всего был один сплошной, огромный, страшный, глобальный косяк. С ором, только я руку не поднимала, один раз шлепнула, и то по попе. Испугалась очень за нее. Она больше меня размером, ей это не нанесло никаких физических травм, но это абсолютно нельзя, недопустимо, я очень извинялась.
Притом что я была очень хорошо подготовлена. Все, что ты можешь сделать не так, ты сделаешь не так. Я не горжусь этим вообще.
— Не обидно, что ты так резко и непреднамеренно повзрослела?
— Да я счастлива, блин! Мне очень хорошо! Не дай бог снова 18.
«Фонд “помоги всем” закрылся»
— Ты пишешь, что у тебя «имидж страшно социально заряженного человека». Это о чем? Обостренное чувство справедливости? «Россия без Путина»?
— Россия без Путина, эстрада с Агутиным, всегда.
— Откуда это?
— Ну это семья. Семья состоит из журналистов, правозащитников, писателей, учителей, диссидентов. Я состою из этого, мы выросли из книжек, в восемь лет нам показали «Обыкновенный фашизм». Мы знали, что Листьев и Светлана Сорокина хорошие, а Невзоров нам не очень нравился.
Мое обостренное чувство справедливости — в бо-о-ольших кавычках — связано с раннесоветской детской подростковой литературой: «Дорога уходит в даль», «Два капитана». Родись я на 100 лет раньше, я бы как раз была такой еврейской девочкой…
— Еврейской девочкой-революционеркой? Кого-нибудь взорвала бы?
— Может, и взорвала бы, очень даже. Я понимаю, кажется, что там с этими чуваками происходило. У меня бы, наверное, крыша съехала, когда все это начало бронзоветь.

— Ты часто говоришь о евреях и своем еврействе. Для тебя это важно?
— Это как с гендером. Часть моей идентичности, которая не то чтобы главная, но неотменяемая. Так же как мой маленький рост. Это специфическое советское еврейство.
У меня есть две сестры сводные, папины от второго брака, израильтянки. И отец там 30 лет живет. В каких-то вещах мне с ними общаться — хотя они практически не говорят по-русски — значительно легче, чем с отцом. У них нет проблемы, что кто-то гей, араб, транссексуал, они очень open minded. Отец консервативный во многих вещах. Но есть вещи, которые я никогда не смогу обсудить с ними [сестрами] и при всех моих непростых отношениях с папой [могу обсудить с ним] — с любого места начать говорить и понимать, о чем мы говорим. От Бориса Гребенщикова до ленинградской улицы.
— Кажется, это больше ленинградство, чем еврейство.
— И ленинградство, и еврейство как опыт отвержения меньшинства, необходимости принимать решения. У меня есть два маленьких и носатых еврейских дедушки — я очень во многом из них. Один остался тихим инженером и 40 лет в своем НИИ работал. Человек кристальной честности и порядочности, но выбравший тихую маленькую жизнь. Не в смысле «не высовываться», а в смысле «сохранять себя, не мараться».
И второй дедушка, которого гнобили, — он вступил в партию, сделал карьеру научную, объездил весь мир, при этом все, какие можно, диссиденты, иностранцы тусили у него дома, очень многим помогал. Это два разных типа и советской интеллигенции, и еврейской в том числе. Это вопрос выбора способа выживания. Я замечаю в себе некоторый навык отличать меньшинство, дискриминацию.
— Возникает желание занять сторону меньшинства?
— Возникает, да. Но я тоже прохожу мимо. Например, все время себя страшно ругаю — каждый день в метро вижу, как менты шмонают очередного человека южной национальности. Это чистый фашизм, это чудовищно, но я не могу подойти.
Раньше я вообще во все лезла. Сейчас, конечно, меньше в связи с девчонками. Понятно, что фонд «помоги всем» закрылся. У меня есть некоторые обязательства, чтобы не выгореть и не сдохнуть.
«Я никогда не сделаю спектакль про домашнее насилие»
— Ты поставила нашумевшую «Считалку». Что тебя привлекло в пьесе?
— Была лаборатория «Золотой маски». Надо было сделать эскиз по современной литературе для подростков. Огромный список произведений, нам прислали аннотации, и надо было потыкать пальцем по аннотациям. О, мальчик умирает от лейкемии. Или: вот родители разводятся… Для режиссера — ужасно скучно. Последняя аннотация в списке оставалась: «Война в Грузии-Абхазии, девочка решает ограбить аптеку, чтобы брат не умер от голода». Я такая: вау, че за треш, давайте! Открыла и поняла с первой страницы, что больше ничего читать не буду, хочу это. Это такой монолог, внутренний монолог, поток сознания главной героини, у которой проходят три дня жизни в этой самой деревне.
Поэзия настоящая. Каждая строчка рождает до хренища каких-то ассоциаций: о, а еще это, а можно еще так! Как раз там появилась история, что это одни женщины. И мне, в принципе, с девочками работать проще. Потому что меня не тормозит. Наслушалась я, что «женщина-режиссер как морская свинка — не имеет отношения ни к морю, ни к свиньям, и вообще, курица не птица, баба не режиссер». Мне не фонит, спокойнее так. На тот момент фонило очень сильно, сейчас уже более-менее спокойно.
— Почему в итоге постановка приняла такую форму — с песнями и куклами?
— Так почему-то пришло в голову, что должен быть мир каких-то тряпок-кукол, там же общение с мертвыми, они все живут среди умерших, умирающих и пропавших. Полупространство между мирами. И это все время женщины, потому что какие там на фиг мужчины, там нет мужчин, там могут быть только дети, старики и какие-то совсем безумцы.
Песни, музыка — это очень Грузия, очень девяностые. Это мое поколение, мой возраст. Там есть эпизод, где они находят кассетный плеер, для них это ценность невероятная. Что они могли слушать? А давайте попробуем взять Мадонну и «Нирвану» и спеть их как грузинское пение?!
Я не умею спектакли в блокноте придумывать. У меня правая рука, нога и половина сердца — художница моя Ксюша Сорокина, с которой мы много вместе придумываем до того, как прийти к артистам, но вообще самый ништяк начинается в процессе.
— Сейчас ты делаешь спектакль про женщин, пытавшихся уехать в ИГИЛ и выйти замуж за боевиков, «Финист ясный сокол».
— Это практически опера. Оригинальная композиторская работа, они очень многое поют, как я люблю, с русской народной музыкой — ассоциации с восточной музыкой, конечно же. Плюс мы сделали документальные монологи оказавшихся в этой ситуации. Смотрели много интервью, искали реальных героинь, что-то придумалось абсолютно из головы.
И они поют, и они говорят, и они играют этот суд, играют в эти инструкции: как носить платок, как печь халяльный торт…
— Почему взялась за эту тему?
— У меня в голове сидело, что надо бы что-то новое для девчонок выбрать после «Считалки». Другая пьеса на ту же тему меня бы совершенно не тронула. Чтобы захотелось делать спектакль, должны быть и тема, которая меня волнует, и материал.
Мне кажется, я никогда не сделаю спектакль про домашнее насилие, потому что у меня вообще нет про это никакого вопроса. Я готова участвовать в акциях, если понадобится, отдать все что угодно и говорить об этом бесконечно. Но спектакль — это попытка неочевидным способом найти неочевидный ответ.
— То есть «Финист…» как-то неочевидно отвечает на вопрос, почему уехать в Сирию — это плохо?
— Почему это плохо — нет вопроса. Мы уже довольно долго репетировали к моменту, когда девчонки сказали: «Блин, мы все равно не понимаем…»
— Артистки не понимали героинь?
— Да. Я сказала: «Так, копаем дальше». Давайте просто разговаривать — каждый от своей героини. Мы четыре часа сидели как такой клуб анонимных кого-нибудь. Как психотерапия. Женщины собрались и обсуждают, что каждая из них собирается поехать [в Сирию]. Мне надо было, чтобы каждая из актрис сказала: «Да, при определенном стечении жизненных обстоятельств, внутренних и внешних, я могла оказаться на этом месте».
Что это плохо — понятно. Мы искали, почему в этой точке оказались абсолютно разные люди. А их там сотни и тысячи, этих приговоров. Такой же спектакль можно было бы сделать про мужчин, которые едут в этот же ИГИЛ или на Донбасс. Мне было бы интересно, наверное, попробовать в этом поразбираться. Большую часть жизни я себя представляла человеком, который скорее уехал воевать на Донбасс, чем замужем и «за стеной». Сейчас уже ни то и ни другое.
Кажется, что это какая-то экзотика. Все знают про Варвару Караулову (студентка, осужденная за попытку уехать на территорию ИГИЛ. — Прим. ТД). А когда начинаешь копаться, оказывается, что это общечеловеческие вещи, так близко к нам, внутри сидит у каждого, что это, факинг, про нас. ИГИЛ близко.
— Ты бы хотела, чтобы девушки, которые сейчас собираются в ИГИЛ, посмотрели этот спектакль? Думала о том, что твой спектакль поможет им отказаться от этой затеи?
— Надеюсь, что кто-то, посмотрев спектакль, в какой-то жизненной ситуации на полпроцента с меньшей вероятностью уйдет в тоталитарную секту. Потому что это одно и то же.
Так не бывает, за редчайшим исключением, что человек пришел на спектакль и у него все поменялось. А если бывает, значит он уже был к этому готов — ему оставались эти полпроцента. Это как на пикеты выходить: зачем ты выходишь на пикеты, ведь это ничего не изменит? Мы не знаем, что что изменит. Ну правда. Все влияет на все.
Редактор Инна Кравченко
Каждый день мы пишем о самых важных проблемах в нашей стране и предлагаем способы их решения. За девять лет мы собрали 300 миллионов рублей в пользу проверенных благотворительных организаций.
«Такие дела» существуют благодаря пожертвованиям: с их помощью мы оплачиваем работу авторов, фотографов и редакторов, ездим в командировки и проводим исследования. Мы просим вас оформить пожертвование в поддержку проекта. Любая помощь, особенно если она регулярная, помогает нам работать.
Оформив регулярное пожертвование на сумму от 500 рублей, вы сможете присоединиться к «Таким друзьям» — сообществу близких по духу людей. Здесь вас ждут мастер-классы и воркшопы, общение с редакцией, обсуждение текстов и встречи с их героями.
Станьте частью перемен — оформите ежемесячное пожертвование. Спасибо, что вы с нами!
Помочь нам



